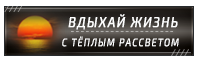Если у них и было чего хорошего тута, так это сад; заросший, тенистый, цветущий — ей почему-то казалось, что без присмотра он зачахнет и обеднеет, но вместо этого, кусты рододендрона, шиповника, волчеягодника, дейции и ирги заполонили все пространство внутри забора.
Розы на маминой могиле. Не так, чтобы Энни нравились розы (или мама, или розы маме), но она любила розовый цвет. Все ее ублюдские ситцевые платьица были розовыми — а может, у нее была только такая ткань.
Дейция на могиле Энид. Не то, чтобы Энид нравилась дейция (что, блять, кроме сиськи вообще может нравиться младенцу?), но Энни вышила цветок на ее пеленках.
Рододендрон на могиле Аннабель — возможно могиле, возможно Аннабель. Тут вообще хуй проссышь, зачем и почему. Энни не знала об этой девочке ровным счетом ничего, кроме того, что теперь живет под ее именем. Иногда ей кажется, что она смутно помнит какую-то темноволосую девочку в розовом (разумеется, блять, розовом) платьишке, но это скорее желание вспомнить, чем настоящее воспоминание.
На отцовской могиле теперь росла сирень. Надо бы выкорчевать.
Хорошим садом все и ограничивалось. Чертов блядский дом. Отец никогда им не занимался — ну то есть как; он видел проблемы, но всегда требовал, чтобы их исправляла мать или сама Энни. Не то, чтобы у них это выходило хорошо, но дом был стар, крепок, и под более-менее регулярным присмотром держался в относительном порядке.
А вот почти четыре года без какого-либо присмотра на него сильно повлияли. Первую свою ночь здесь они провели в машине — внутри двухэтажного деревянного строения, когда-то покрытого белой краской, было чертовски холодно, особенно после полуденной жары Вегаса. Там было так жарко и так солнечно, что становилось невозможно дышать; там нельзя было представить себе ничего плохого, ведь тени, где плохое могло прятаться, выжигались палящим солнцем. Она б осталась там, коли не Брайан; в Чикаго вечный ветер пробирал до костей, в Чикаго кровь превращалась в ледяную кашицу, в Чикаго тени были повсюду. Тени от кустов, тени от забора, тени от паутины в углах дома.
Она отмывала блядский дом весь день. Потом порыскала в интернете — он ей совсем не нравится, но там всегда можно найти нужное. Например, “разнорабочего”. Ну типа, ей много и всего надо делать (и лучше подешевле, у нее деньги не из манды сыплются), так что он должен работать по-разному. Звучало обоснованно. По счастью первый же не стал разводить шуры-муры, буркнул “Адрес?” и приехал.
Он что-то там покрутил в котле и следующую ночь у Энни с Шарлоттой получилось провести уже в доме.
Теперь он приезжал дважды в неделю. Говорил мало (это Энни нравилось), работал споро (это тоже), просил немного (а это совсем-совсем нравилось). И она тоже работала как умела, понемножечку, столярничала по большей части. Мамка это умела и ее тоже научила кое-как, а теперь с этим вашим Ютьюбом уроков куча появилась (но там у них куча разных инструментов, купить которые Энни не позволила бы жаба).
Он и сегодня должен был приехать; в шесть, да, как обычно — остеклить выбитые окна на втором этаже. Невелика работа, чесслово, но нужная ж. Только вот опоздала Энни, задержалась в детском саду под нудные разговоры воспитательницы. И чего ей надо-то? Хрен поймешь; слов было много, а когда их много — уследить за ними никак не выходит. Она заезжает во двор лишь в половине седьмого — и машина “разнорабочего” (дурацкое имя, как пить дать — ненастоящее) уже там.
А сам он с лопатой — у розовых кустов.
И, судя по его лицу, ему не очень нравится то, что он там видит.